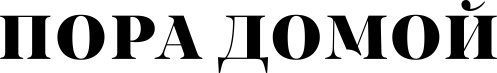Восстание простого народа. Василий Шуйский
Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России католицизма. 1874
После смерти Самозванца царем был избран Василий Шуйский. Для его избрания не были созваны выборные от всей земли, как это было во время выборов Бориса Годунова. Василия Шуйского в цари поставили бояре. У Лжедимитрия были приверженцы, не любившие Василия Шуйского. Они-то и распустили слух, что Лжедимитрий спасся, бежал в Польшу и живет у своей тещи. Тяжело жилось тогда народу: в судах нельзя было найти правды, помещики притесняли крестьян, жители городов были недовольны большими налогами; благодаря всему этому, в разных городах: Туле, Орле, Калуге и др. народ не присягнул Василию Шуйскому, а признал своим царем Димитрия. Вскоре после этого появились грамоты какого-то Ивана Болотникова, говорившего в них, что он был в Польше и видел Димитрия, который назначил его своим воеводой и велел всем крестьянам и другим бедным людям подняться против богатых. За это Болотникова поймали и казнили, но смута не прекратилась. Пронесся новый слух, что Димитрий вернулся из Польши, и вот появляются опять грамоты, разосланные <…>уже от имени царя Димитрия. В них новый Самозванец призывал русских людей идти к нему и объявлял, что он идет в Москву перевернуть на Руси все порядки, чтобы богатые обеднели, а бедные разбогатели, «чтобы бояре стали мужиками, а мужики правили землей». Быстро набрал второй Самозванец большое войско из казаков, беглых крестьян, бедных мещан и поляков, бродивших в Московском государстве после убийства первого Самозванца. С этим войском Лжедимитрий II подошел к Москве и остановился недалеко от нее, в селе Тушине. Войско его занималось грабежами и разбоем, а потому его прозвали «воровским», а самого Самозванца – «Тушинским вором». <…>Русские холопы, казаки, толпы крестьян, направляясь в Тушино, убивали царских наместников и помещиков, грабили, жгли и разоряли все на своем пути. Несколько раз царские войска под начальством племянника царя Василия, Михаила Скопина-Шуйского, разбили тушинцев, но в тушинский стан каждый день приходили все новые и новые толпы поляков, русских холопов и разорившихся крестьян. Видели бояре, что им не справиться с «Тушинским вором». Некоторые из них бросили служить Василию Шуйскому и перешли на сторону «Вора», другие завели переговоры с польским королем Сигизмундом III и просили его помочь им избавиться от Самозванца, обещая за это выбрать его сына Владислава в русские цари. Польский король обрадовался этому и послал к Москве свое войско, к которому примкнули и те поляки, которые раньше пристали к Самозванцу. Василий Шуйский выслал против поляков войско, но оно было разбито. Тогда бояре, просившие польского короля, свергнули Шуйского с престола и заставили его принять монашество. Вскоре после этого заволновалась в Москве чернь и собиралась впустить в Москву «тушинцев». Бояре испугались. Кое-кто из них уехал из Москвы в свои имения, а оставшиеся, пригласив на собор выборных от московских торговых людей, избрали русским царем польского королевича Владислава. Бояре составили приговор, в котором говорилось, что Владислав переменит католичество на православие и будет править государством в согласии с боярами и Земским Собором. После этого Москва присягнула на верность Владиславу, и бояре впустили в нее польские войска. Когда это случилось, «Тушинский вор», опасаясь поражения от русских и польских войск, отступил к Калуге. Здесь он был убит, после чего «тушинские воры» распались на несколько шаек.
К. Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862
Патриарх Гермоген и Прокопий Ляпунов
До приезда Владислава управление государством было поручено Боярской Думе, состоящей из семи бояр, почему время ее правления называется «семибоярщиной». Чтобы королевич скорее приехал, бояре отправили под Смоленск к Сигизмунду послов просить его отпустить сына в Москву. В этом посольстве были самые знатные бояре и духовенство, в том числе и ростовский митрополит Филарет, отец Михаила Федоровича Романова. Между тем, Сигизмунд стал думать совсем другое: ему «самому хотелось сделаться московским царем и соединить Московское государство с Польшей», о чем он и заявил послам. Подчинение Сигизмунду показалось русским людям ужасным, так как он был самым ревностным католиком. Поняли тогда русские, какая опасность грозит православной вере и всему государству. Кроме опасности от Сигизмунда, который осаждал город Смоленск, была еще одна беда: шведы не хотели, чтобы смутами в Московском государстве воспользовались одни поляки, на этом основании шведский король тоже начал войну и захватил Новгород. Русская земля, казалось, погибала. В это-то печальное время нашлось несколько великих людей, выступивших на защиту отечества и православной веры. Раньше всех заговорил Гермоген, московский патриарх. Он стал проповедовать о том, что русским людям надо подняться против своих врагов. Когда посланные им грамоты достигли городов и были прочитаны на вечах, русский народ охватило сильное патриотическое чувство. Всех охватило желание отстоять свою родину; даже «Тушинский Вор» говорил, что он не допустит торжествовать ереси и не даст королю ни кола! В нескольких городах были собраны «земские полки» под начальством рязанского дворянина Прокопия Ляпунова. Он тоже рассылал грамоты в разные города и к дворянам и называл в них бояр изменниками. Когда стало известно о движении народных полков, поляки, бывшие в Москве, сожгли большую часть города и укрепились за крепкой Китайской стеной. В то же время бояре составили приговор и отправили его к нашим послам под Смоленск, чтобы они согласились на требования Сигизмунда. Гермоген не подписал этой грамоты, а митрополит Филарет говорил Сигизмунду, что без подписи патриарха она не законна; отказался Гермоген исполнить и требование изменника, Михаила Салтыкова, принуждавшего патриарха писать Ляпунову, чтобы он прекратил свой поход. На изменническое требование Салтыкова Гермоген ответил: «Да будет над ними милость Божия и наше благословение, а на изменников да излиется от Бога гнев, и да будут они прокляты отныне и до века». За такие слова озлобленные поляки заточили Гермогена в подземелье, где он и умер от голода. Сложил свою голову и Прокопий Ляпунов под ударами казацких сабель, а после его смерти земское ополчение распалось.
П. Чистяков. Патриарх Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту. 1860
Минин и Пожарский
Не смутила русских людей первая неудача земских полков. Когда смолк голос Гермогена, призыв к борьбе с поляками и русскими изменниками раздался из Троицко-Сергиевской лавры, оказавшей великую заслугу русской земле в это смутное время. Еще до прихода в русскую землю сигизмундовых полков большой отряд поляков, служивших «Тушинскому Вору», был послан к Троицкой лавре, которая в то время представляла сильную крепость. В ней имелись большие запасы хлеба, которыми поляки хотели завладеть, и, кроме того, лавра мешала тушинцам тем, что в ней находили приют и пищу разоренные окрестные жители, которые стояли за порядок и не примкнули к «Вору». По всем этим соображениям, в стане «Вора» решено было овладеть Троицко-Сергиевской лаврой. Наскоро собрала лавра до 2000 человек из ближайших сел, да 300 монахов «вооружились на брань». Эти-то немногочисленные, но твердые духом, защитники обители Сергия, находясь за крепкой монастырской стеной, отлично защищались против 30 000 поляков. Шестнадцать месяцев поляки осаждали лавру, но, не достигнув цели, должны были уйти. Не меньшее значение, чем эта славная защита, имели те воззвания, которые стали рассылать архимандрит лавры Дионисий и келарь Авраамий Палицын, и в которых они красноречиво писали: «Православные христиане! Все мы родились от христианских родителей… Сами видите, какое разорение учинено в Московском государстве; где святые Божьи церкви и Божьи образа?.. Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием; не пощажены ни старики, ни младенцы грудные… Если кто хочет из вас помереть христианами – пусть начнут великое дело, чтобы быть нам всем воедино. Положите крепкий совет между собою: буде и есть между вами недовольные, Бога ради отложите то на время, чтобы всем нам стать воедино». Одна из таких грамот была доставлена в Нижний Новгород. Когда народ узнал об этом, все – и старые и малые – собрались на вече возле церкви Святого Спаса. По окончании обедни всеми уважаемый земский староста Козьма Минин -Сухорук стал на паперти и велел прочесть грамоту, а потом громким голосом сказал: «Граждане нижегородские! Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть на имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать… Дело великое! Я знаю: только мы поднимемся, многие города пристанут, и мы избавимся от чужеземцев». Речь Минина произвела на народ сильное впечатление, многие расплакались и тут же стали жертвовать на расходы для ратников свое добро: деньги и разные драгоценные вещи. Тут же Минин указал, что воеводой надо выбрать князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который отличался честностью, знал ратное дело и уже сражался с поляками в народных полках Ляпунова.
М. Скотти. Минин и Пожарский. 1850
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский жил в то время в своем имении, в Суздальском уезде, и лечился от раны. Он выслушал нижегородских послов, ответил им, что подчиняется народному выбору, и в свою очередь посоветовал нижегородцам выбрать Минина ему в помощь для заведывания казной. Нижегородцы так и сделали, а Минин после раздумья тоже согласился. Весть о происшедшем в Нижнем Новгороде быстро разнеслась в другие города. Из разных мест к Нижнему потянулись народные полки. Грамоты Пожарского, которые он старался разослать по всем городам и селам, читались в церквах, на городских вечах, на сельских сходках; отовсюду стали приходить люди и присылались деньги, – поднялась вся земля.
Когда составилось большое войско, Пожарский летом 1612 года поспешил к Москве, так как к ней двигался на помощь полякам большой отряд войска. Несколько раз Пожарский вступал с ними в битву и, наконец, принудил его отступить. Между тем, сидевшие в Москве поляки стали терпеть голод. Они уже съели лошадей, собак, кошек, мышей и стали есть землю и трупы мертвецов. Месяца два они продержались, наконец, в октябре сдались на милость Пожарского. С этого времени смута стала утихать.
В. Савинский. Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского. 1882